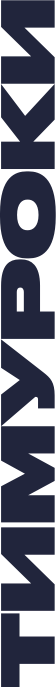Что читаем
дальше?
дальше?
Всё просто: вы голосуете, модераторы книжного клуба пыхтят над калькулятором и объявляют победителя, у «второго места», возможно, будет второй шанс на следующих голосованиях.
Что читаем дальше?
Что читаем дальше?
Всё просто: вы голосуете, модераторы книжного клуба пыхтят над калькулятором и объявляют победителя, у «второго места», возможно, будет второй шанс на следующих голосованиях. Прежние анонсы — ниже.
Февраль '26
Дата встречи пока неясна, но обычно — третьи или четвёртые выходные месяца.
- «Сценаристка»
Светлана Павлова«Сценаристка» получила первую премию «Лицей» 2025 года для молодых прозаиков и поэтов. Этот роман не безупречен и классикой не станет. Но, в нем есть много того, что стоит пары вечеров чтения и последующего обсуждения.
Во-первых, оптика поколения 30-летних с темами поиска любви и дружбы, комфорта и личных границ, успеха и провала в современной Москве.
Во-вторых, главная героиня Зоя — начинающая сценаристка и честно показывает терзания творческой личности и производственную кухню:
Надо иметь некоторую смелость принять тот факт, что ты – художник среднего пошиба. Второго ряда. А то и третьего. Крепкий. Мастеровитый. Умелый. Но не великий и не гениальный. … И Зоя, которая столько времени провела в компании Виталика, жившего в дихотомии «либо великое, либо никак», всё не могла эту смелость в себе найти.
В-третьих, язык — легкий в чтении, приправленный приметными словечками нашего времени, который рисует яркие портреты персонажей, в котором чувствуется отсвет довлатовской интонации и юмора Тэффи.
В-четвертых, эмоционально колкая тема ВИЧ, прямое столкновение с которой лишает героиню равновесия и запускает рефлексию непростого опыта отношений с мужчинами. И тут у читателя возможна боль узнавания.
В конце концов героиня через поиск «простого женского счастья» приходит к свободе быть собой, ни во что не играть, состояться в профессии и найти опору в самой себе. - «Солярис»
Станислав ЛемКнига, которая навсегда изменила представление о научной фантастике как о «низком жанре» и литературе для фриков-любителей. Роман о космосе, ставший одним из главных высказываний о человеке и о том, что «человеку нужен человек». Проза, вместившая в себя все знаковые литературные тренды и философские искания ХХ столетия — экзистенциализм и психоанализ, научно-технический прогресс и кризис гуманизма. История любви и потери Шекспировского масштаба и лучшая из возможных иллюстрация Хайдеггеровского ужаса. Сюжет, вдохновивший Тарковского и зазвучавший с новой — почти провидческой — остротой в эпоху Искусственного Интеллекта. И просто очень интересная книжка. Давайте читать. - «Другие голоса, другие комнаты»
Трумен КапотеКнига-дебют, после которой будущий американский классик стал известен публике. Капоте было 24.
Эта история 13-летнего мальчика, потерявшего мать и приехавшего к незнакомому отцу в южную глушь, стартует как реалистичное произведение, но очень скоро сквозь неё прорывается разнообразный сюрреализм. Жанр «южной готики» — это ведь, если подумать, тот же латиноамериканский магический реализм, который отправился на север, в сторону США, где угодил в болота Луизианы или Теннесси.
Историки пишут, что это один из четырёх главных квир-романов первой половины XX века. Ну, чтобы разглядеть там «квирность», многим понадобится предупреждение (вот оно), но сексуальность тут, на мой вкус, не главная тема. Взросление, сложность мира, который и неуютен, и чужд, поиски в нём себя и смысла, любовь и жестокость… можно найти много разного.
Запоминающиеся персонажи, по-разному прекрасные, яркий язык (перевод Голышева*), мурашки и сюжетные загадки, хитроумное говорение о том, о чем в 1948-м публично говорить было как бы нельзя. В общем, наше банальное «есть что обсудить» вновь 100% применимо.
*Прочитано по рекомендации коллеги Голышева, переводчика Владимира Бабкова. Он считает, что именно эта книга — а не какой-нибудь «Завтрак у Тиффани» — лучший роман Капоте.
Что выберете?
В предыдущих сериях:
Какие книги мы обсуждали на созвонах? Клики по некоторым обложкам откроют вам анонсы, написанные модераторами клуба.
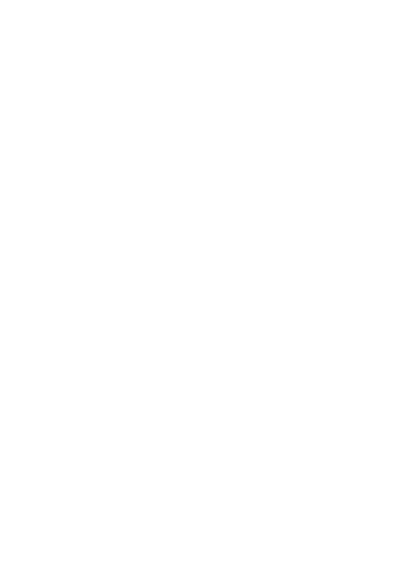
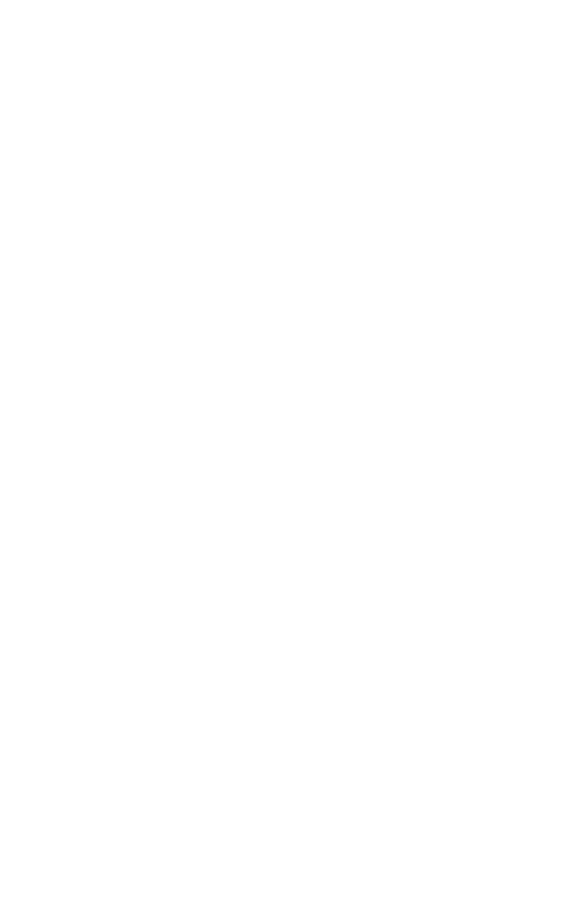
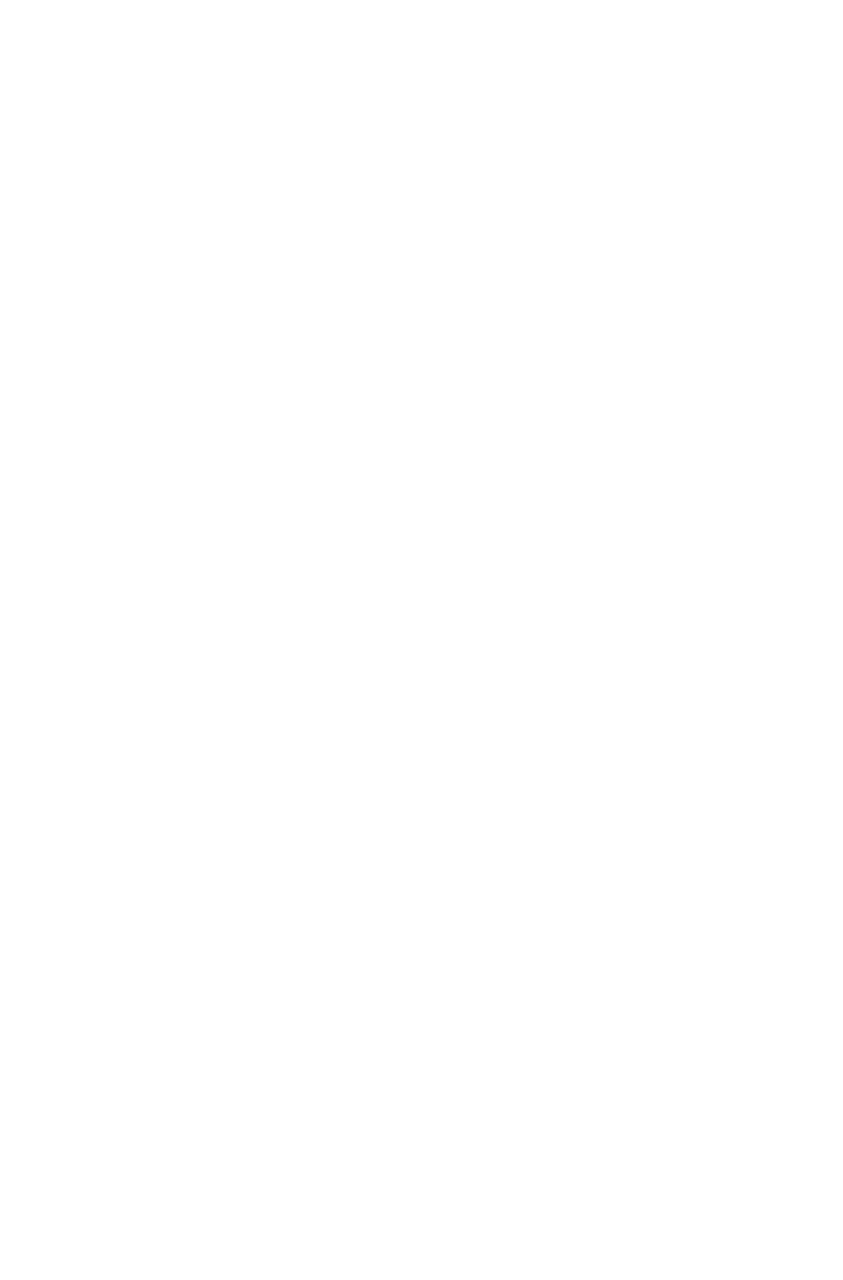
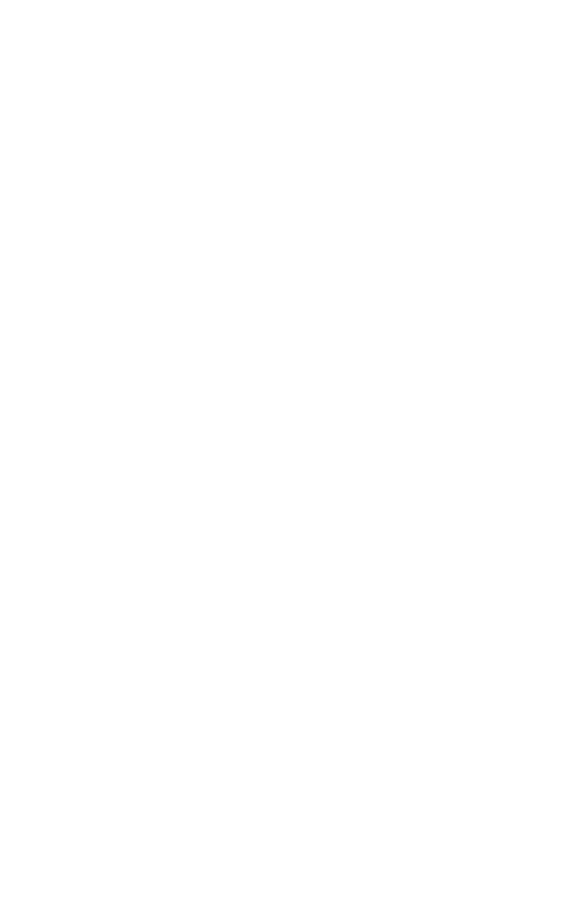
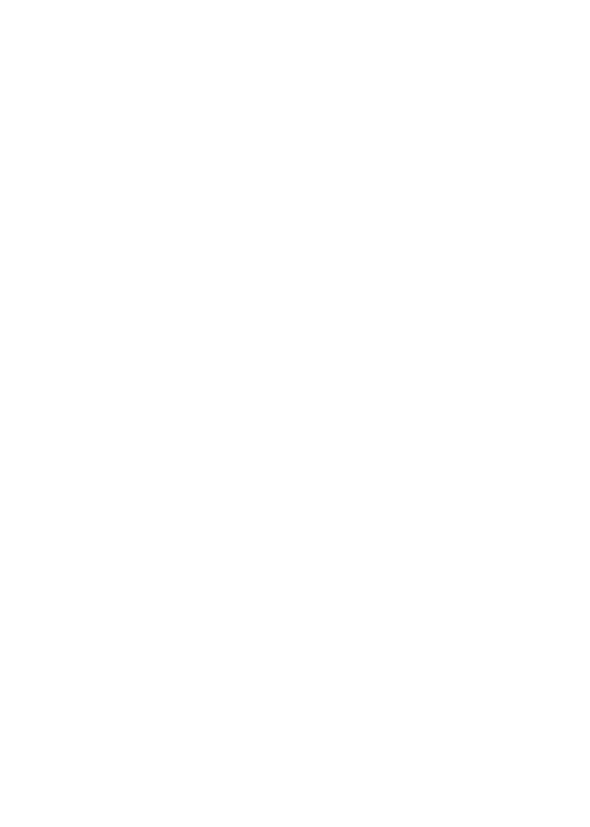
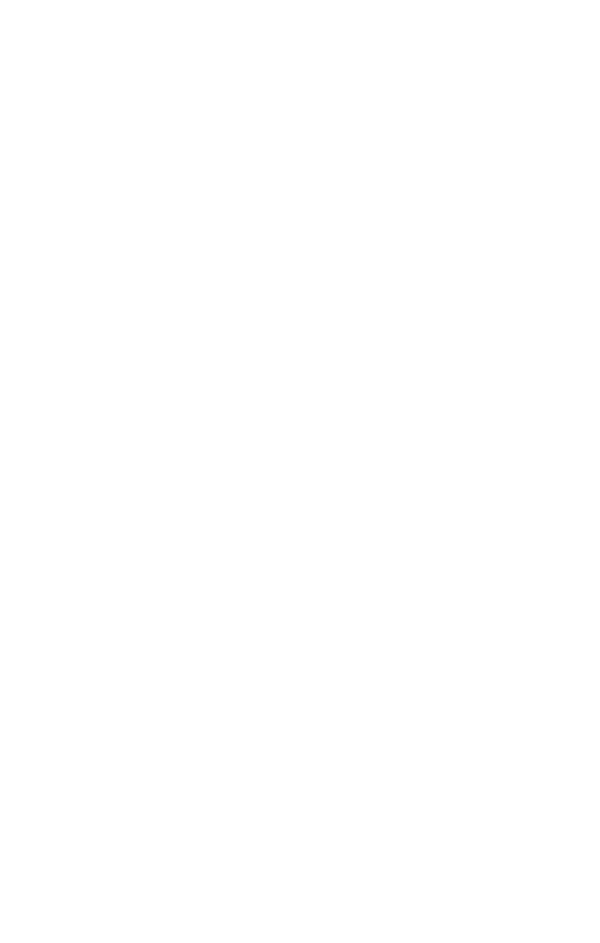
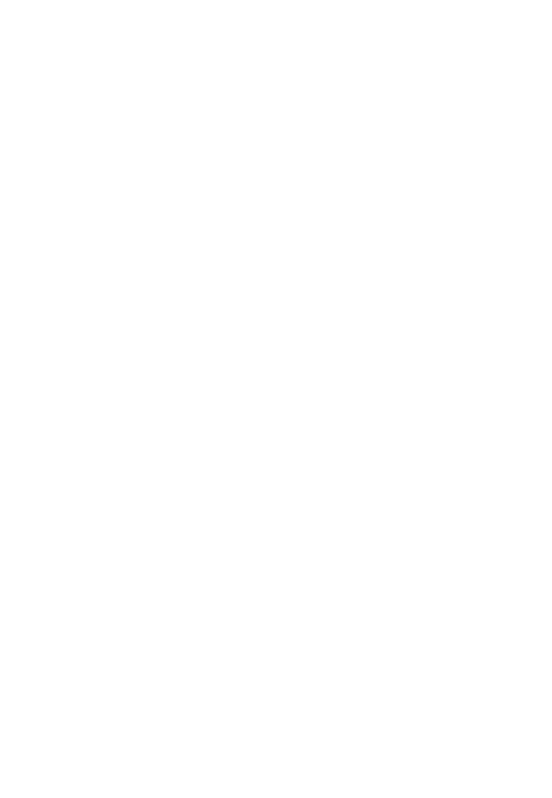
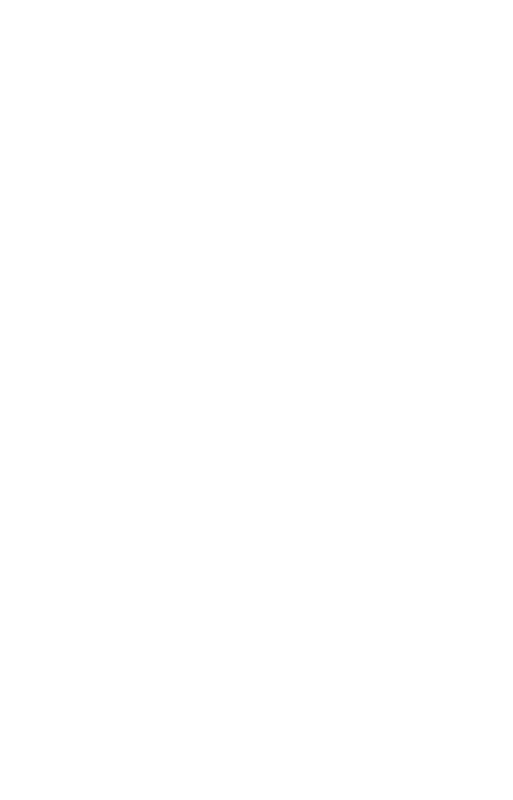
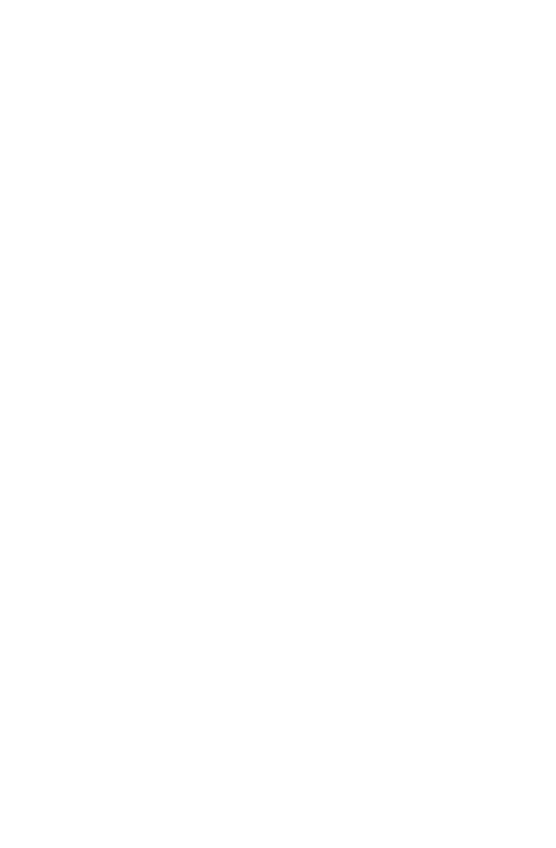
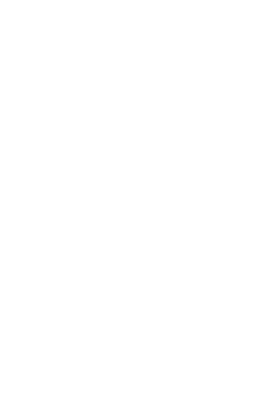
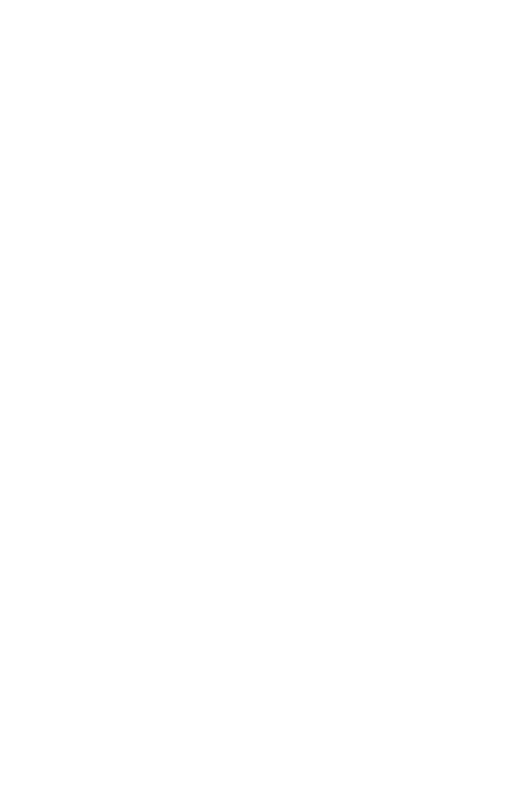
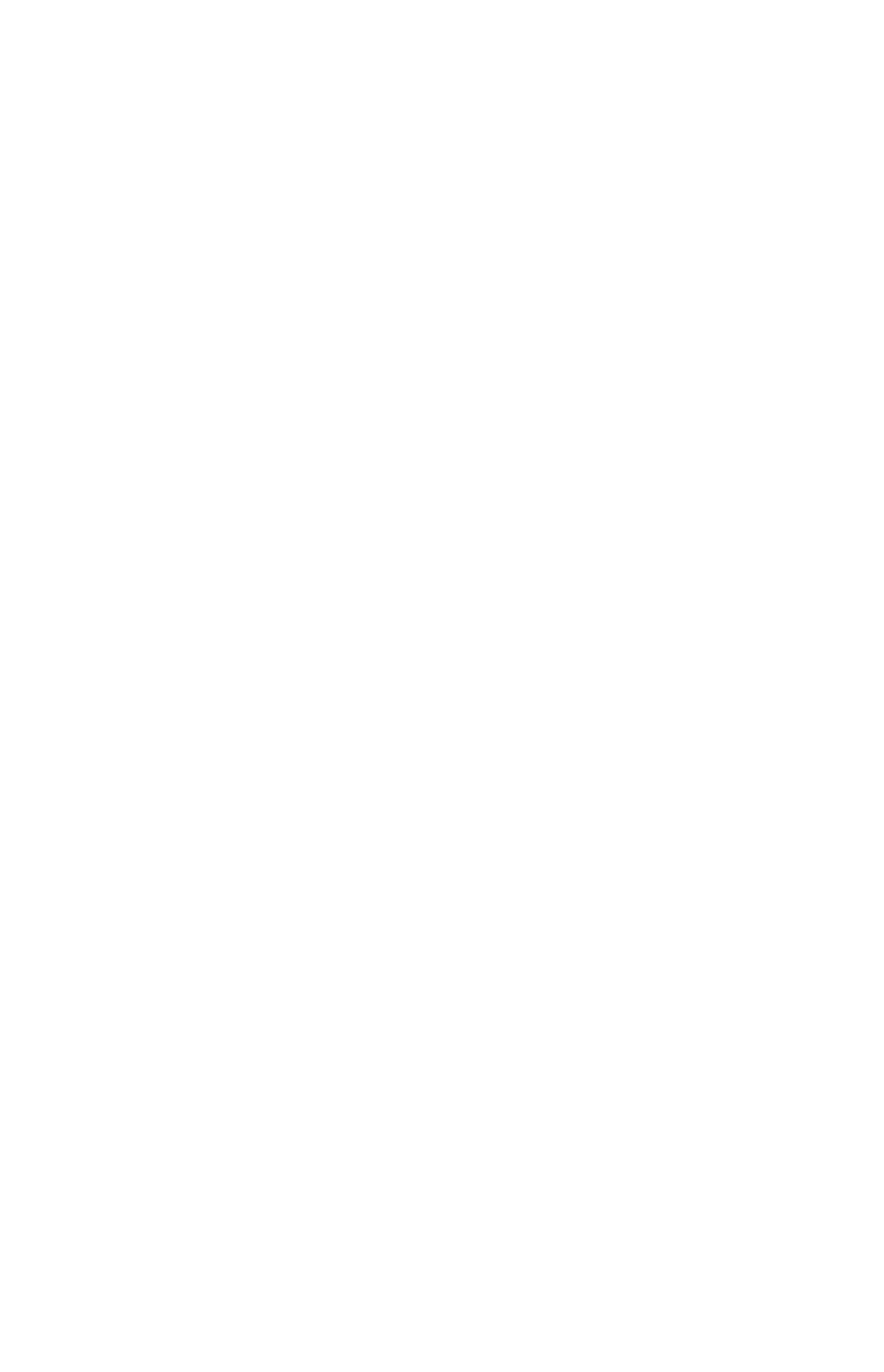
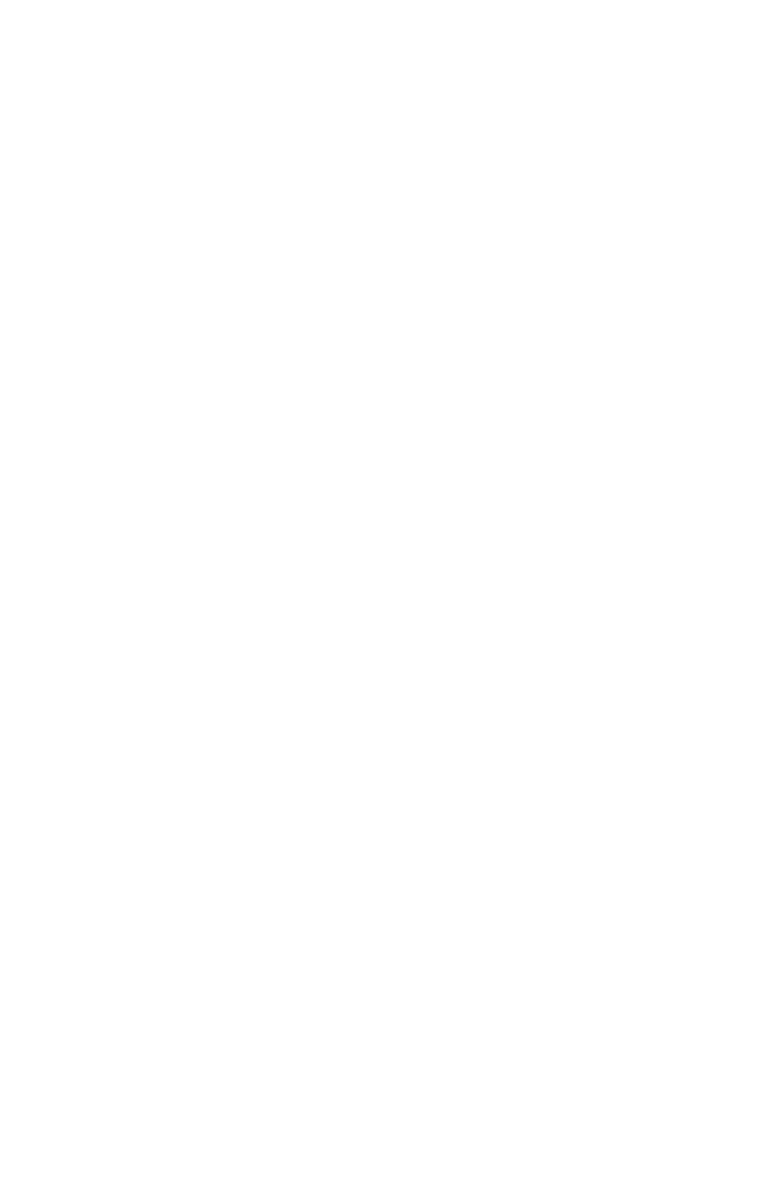
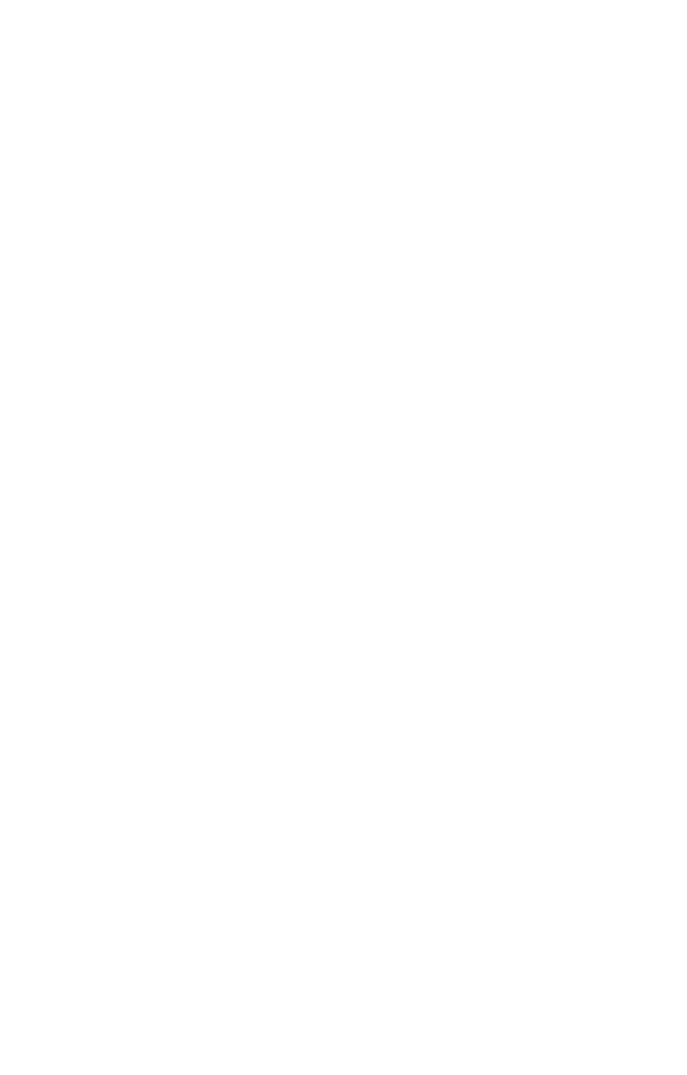
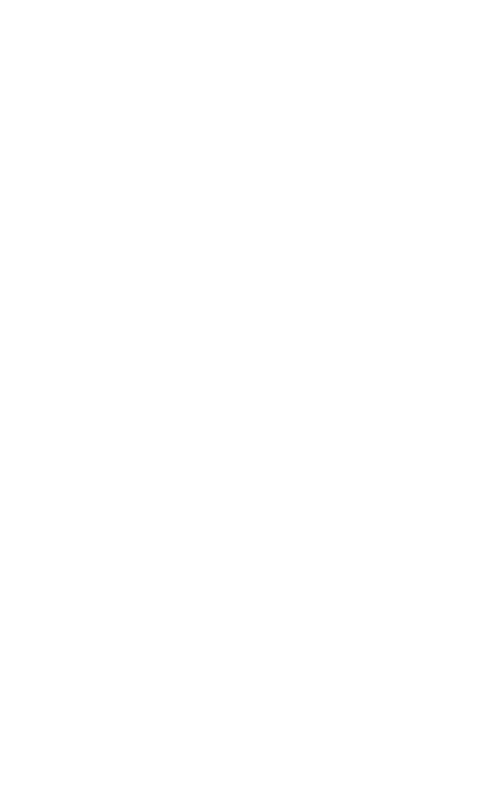
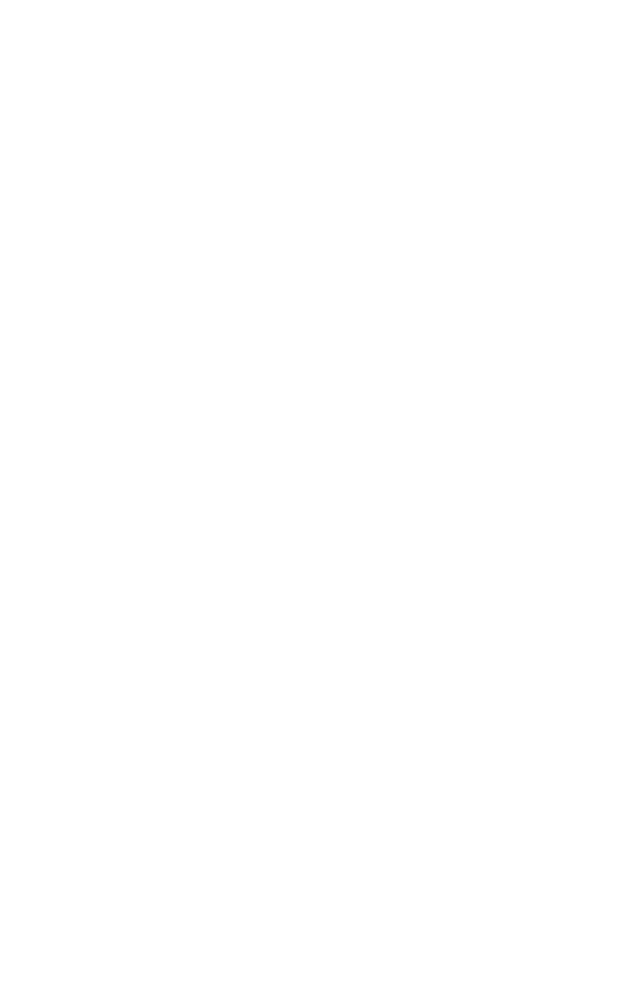
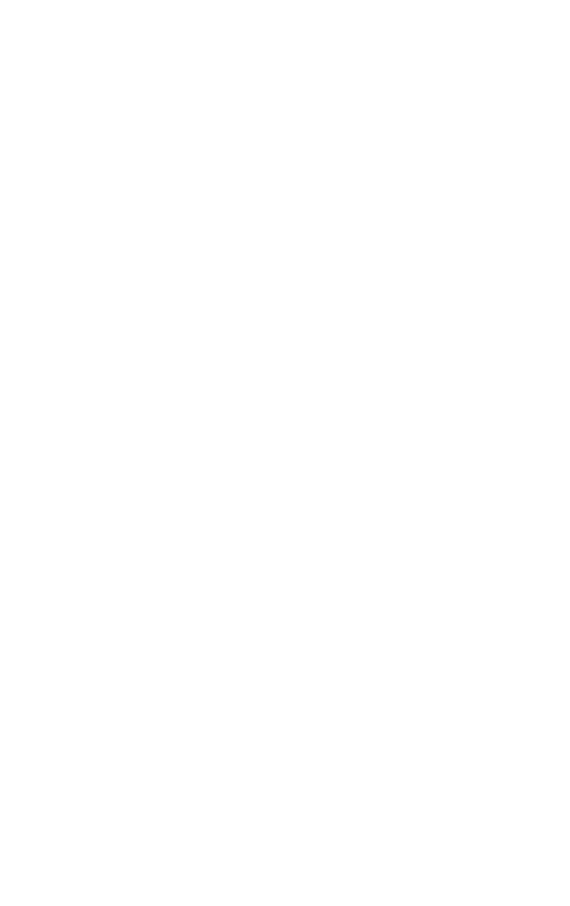

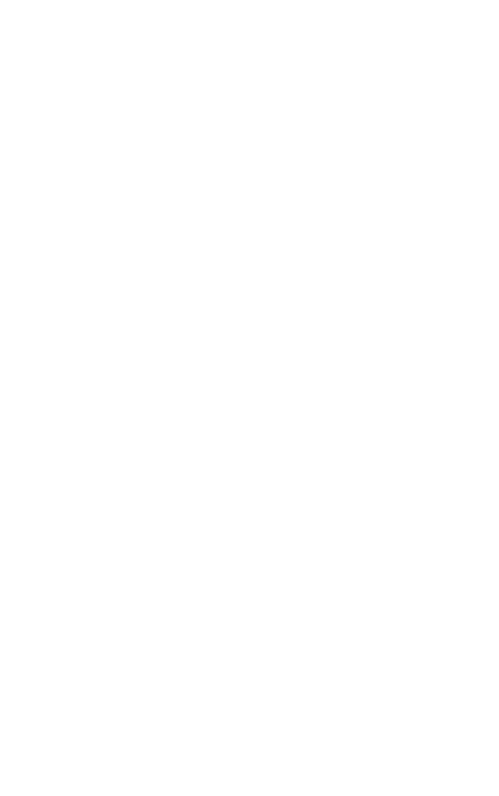
Книги-номинанты
Они проиграли свои голосования и не обсуждались, но плохими от этого не стали. Клик по плюсу откроет вам анонс, написанный одним из модераторов клуба.
Тимур: Пересказывать сюжет не буду — мы все читали «Обломова» в школе — вместо этого объясню номинацию.
«Мы», читавшие эту книгу тогда, в тех годах и остались, а вот что теперь вычитают из неё теперешние мы, трудно предсказать. Но мне любопытно.
Моё первое чтение выпало на эпоху перемен и оптимизма, что, очевидно, сильно затеняло героя-тюфяка. И вот мы здесь, во времена, когда игнорировать мир вокруг — одна из реальных стратегий не рехнуться совсем. Может, Илья Ильич Обломов просто всё лучше всех понимал, оттого и не вставал с дивана? Дзен, у-вэй, нирадха за 100+ лет before buddhism became cool?
Может и нет, но чтобы проверить, надо перечитать и обсудить.
«Мы», читавшие эту книгу тогда, в тех годах и остались, а вот что теперь вычитают из неё теперешние мы, трудно предсказать. Но мне любопытно.
Моё первое чтение выпало на эпоху перемен и оптимизма, что, очевидно, сильно затеняло героя-тюфяка. И вот мы здесь, во времена, когда игнорировать мир вокруг — одна из реальных стратегий не рехнуться совсем. Может, Илья Ильич Обломов просто всё лучше всех понимал, оттого и не вставал с дивана? Дзен, у-вэй, нирадха за 100+ лет before buddhism became cool?
Может и нет, но чтобы проверить, надо перечитать и обсудить.
Тоника:
Соскучились по приключениям и фантастике? Космический вестерн, жанр подзабытый и не наш, но читается в этой версии как родной. Перемигивание с классикой фантастики причиняет болезненное удовольствие.
Человеческая цивилизация расселилась по множеству планет и забыла о собственном доме, Земля стала мифом, запретной легендой, ересью.
«…В принципе вернуться к Средневековью намного проще, чем расти вверх, к звёздам» — говорит автор в интервью.
В этом мире бумажные книги запрещены, и подпольные книжники бегут от Инквизиции на корабле с искусственным разумом. Книги здесь — контрабанда, сокровище, артефакт, связь судеб и ключ к тайному знанию. И то, что кажется поначалу скитаниями космических пиратов превращается в опасную одиссею к утраченному Эдему.
Сюжет динамичный, слог легкий, герои неоднозначные. Финал оставляет надежду и много вопросов.
Соскучились по приключениям и фантастике? Космический вестерн, жанр подзабытый и не наш, но читается в этой версии как родной. Перемигивание с классикой фантастики причиняет болезненное удовольствие.
Человеческая цивилизация расселилась по множеству планет и забыла о собственном доме, Земля стала мифом, запретной легендой, ересью.
«…В принципе вернуться к Средневековью намного проще, чем расти вверх, к звёздам» — говорит автор в интервью.
В этом мире бумажные книги запрещены, и подпольные книжники бегут от Инквизиции на корабле с искусственным разумом. Книги здесь — контрабанда, сокровище, артефакт, связь судеб и ключ к тайному знанию. И то, что кажется поначалу скитаниями космических пиратов превращается в опасную одиссею к утраченному Эдему.
Сюжет динамичный, слог легкий, герои неоднозначные. Финал оставляет надежду и много вопросов.
Тимур:
«Просто с Гекубой, Кассандрой и хором троянок происходит какой-то пиздец» — и цитата, и описание ключевого фрагмента книги одновременно.
Древняя Греция, наконец-то лишённая эпического пафоса. Афиняне нападают на Сиракузы, терпят поражение, оставшиеся в живых пленные сидят в яме-карьере, постепенно умирая от голода и болезней. Это предыстория.
История: два друга-гончара решают, что должны силами этих пленных прямо в этой яме поставить спектакль Эврипида, знаменитого афинского драматурга. Потому что война войной, а искусство искусством. Спойлер: всё пойдёт не так, как ожидают режиссёры-новички.
Дебютная книга Леннона приближает греков к нам стилистически: они вовсю матерятся, бухают, не слишком-то оглядываются на богов, мелочны, прагматичны — но и вот такие возвышенные бзики в их Сиракузах возможны.
Это вроде бы не «триллер» в принятом понимании термина, но напряжение сюжета здесь не отпускает, нарастает и временами даже делает больно. И подумать есть о чём!
«Просто с Гекубой, Кассандрой и хором троянок происходит какой-то пиздец» — и цитата, и описание ключевого фрагмента книги одновременно.
Древняя Греция, наконец-то лишённая эпического пафоса. Афиняне нападают на Сиракузы, терпят поражение, оставшиеся в живых пленные сидят в яме-карьере, постепенно умирая от голода и болезней. Это предыстория.
История: два друга-гончара решают, что должны силами этих пленных прямо в этой яме поставить спектакль Эврипида, знаменитого афинского драматурга. Потому что война войной, а искусство искусством. Спойлер: всё пойдёт не так, как ожидают режиссёры-новички.
Дебютная книга Леннона приближает греков к нам стилистически: они вовсю матерятся, бухают, не слишком-то оглядываются на богов, мелочны, прагматичны — но и вот такие возвышенные бзики в их Сиракузах возможны.
Это вроде бы не «триллер» в принятом понимании термина, но напряжение сюжета здесь не отпускает, нарастает и временами даже делает больно. И подумать есть о чём!
Тоника:
Ноябрь. Палитра пейзажа обесцвечивается, темнеет и прячется по утрам в тумане. Мрачно и таинственно. Оптимально для романа Брэдбери в стиле нуар, пропитанного атмосферой детективов 40-х с их черно-белым кино, запахом музыкальных пластинок и сигарет, смесью иронии и желания найти ответ.
Про него говорят «нетипичный» Брэдбери (нет фантастики, лишь чувство мистического), хотя он во многом автобиографичен. Место действия — Калифорния, район Венеция (Venice) в городе Лос-Анджелес, где Брэдбери жил как раз в то время.
Главный герой — молодой писатель, который пишет рассказы для местных изданий, жаждет издать книгу и стать известным. Он расследует череду странных смертей и находит не только убийцу, но и источник вдохновения.
«Дотронулся до пишущей машинки, гадая, кто она мне — потерянный друг, слуга или неверная любовница?»
Язык книги не выпячивается, не выплясывает вензеля, а просто ведет за собой кратко и живо. Движение пытливой мысли гуляет от страха к юмору, от уныния и одиночества к любви и оптимизму.
Ноябрь. Палитра пейзажа обесцвечивается, темнеет и прячется по утрам в тумане. Мрачно и таинственно. Оптимально для романа Брэдбери в стиле нуар, пропитанного атмосферой детективов 40-х с их черно-белым кино, запахом музыкальных пластинок и сигарет, смесью иронии и желания найти ответ.
Про него говорят «нетипичный» Брэдбери (нет фантастики, лишь чувство мистического), хотя он во многом автобиографичен. Место действия — Калифорния, район Венеция (Venice) в городе Лос-Анджелес, где Брэдбери жил как раз в то время.
Главный герой — молодой писатель, который пишет рассказы для местных изданий, жаждет издать книгу и стать известным. Он расследует череду странных смертей и находит не только убийцу, но и источник вдохновения.
«Дотронулся до пишущей машинки, гадая, кто она мне — потерянный друг, слуга или неверная любовница?»
Язык книги не выпячивается, не выплясывает вензеля, а просто ведет за собой кратко и живо. Движение пытливой мысли гуляет от страха к юмору, от уныния и одиночества к любви и оптимизму.
Аня:
Токарчук — пятый Нобелевский лауреат в истории польской литературы (для сравнения во всей русской и советской литературе их тоже всего пять). Нобеля ей дали в 2019-м году, а за год до этого она первой среди польских писателей получила Международного Букера (за роман «Бегуны»). Роман «Веди свой плуг по костям мертвецов» тоже был в Букеровском шорт-листе. В общем, это Большой Писатель.
Если очень упростить, то «Веди свой плуг по костям мертвецов» — это история про сведение счетов, Final Reckoning, Мне отмщение, и аз воздам. Пересказывать сюжет бесполезно, но на старте есть все слагаемые для «деревенского детектива» в духе историй про Мисс Марпл: богом забытая деревушка в горах на польско-чешкой границе, где все время заметает дороги и пропадает связь, чудаковатая старушка, сосед-отшельник и загадочные убийства.
На этом, впрочем, пересечения заканчиваются. Чего нет в романе Токарчук, так это благопристойной идиллии английской деревни, даже тоски по ней нет. Мир здесь опасный и нездоровый, и убийства его уклад как будто не нарушают, а продолжают. У меня роман оставил сложное послевкусие — безысходности с примесью легкого безумия (которое, как ни странно, дает надежду). А это в каком-то смысле все, что нужно знать про нашу жизнь — здесь и сейчас.
Я читала по-польски, но перевод Ирины Адельгейм очень хороший.
Токарчук — пятый Нобелевский лауреат в истории польской литературы (для сравнения во всей русской и советской литературе их тоже всего пять). Нобеля ей дали в 2019-м году, а за год до этого она первой среди польских писателей получила Международного Букера (за роман «Бегуны»). Роман «Веди свой плуг по костям мертвецов» тоже был в Букеровском шорт-листе. В общем, это Большой Писатель.
Если очень упростить, то «Веди свой плуг по костям мертвецов» — это история про сведение счетов, Final Reckoning, Мне отмщение, и аз воздам. Пересказывать сюжет бесполезно, но на старте есть все слагаемые для «деревенского детектива» в духе историй про Мисс Марпл: богом забытая деревушка в горах на польско-чешкой границе, где все время заметает дороги и пропадает связь, чудаковатая старушка, сосед-отшельник и загадочные убийства.
На этом, впрочем, пересечения заканчиваются. Чего нет в романе Токарчук, так это благопристойной идиллии английской деревни, даже тоски по ней нет. Мир здесь опасный и нездоровый, и убийства его уклад как будто не нарушают, а продолжают. У меня роман оставил сложное послевкусие — безысходности с примесью легкого безумия (которое, как ни странно, дает надежду). А это в каком-то смысле все, что нужно знать про нашу жизнь — здесь и сейчас.
Я читала по-польски, но перевод Ирины Адельгейм очень хороший.
Тоника:
Я взяла в магазине случайную книгу с полки фэнтези и зачиталась, так и стояла, не замечая сползающий на пол шарф, пока не поняла, что хочу нырнуть в эту реальность — Англия 1830-х, лингвистическая магия, тайное общество, драйв юности и стремление к справедливости. Унесла её домой.
Текст насыщен заметками о происхождении слов, о трансформации их значений и языковых связях, что дарит отдельное удовольствие. Серебряная пластина с правильно составленной парой слов из разных языков, нанесённых на оборотные стороны, оберегает экипаж от аварий, исцеляет болезни и многое другое.
Вавилон — Королевский институт переводов в Оксфорде, где герои книги, носители разных языков, учатся этой магии. Чужаки в этом мире, они встают на опасный путь революции, считая, что империя процветает, вытягивая серебро из своих колоний и скрывая от них знания о силе языков.
При всей драматичности, роман уютный и легко ведёт за собой. Не всё понятно и есть о чём поспорить.
Я взяла в магазине случайную книгу с полки фэнтези и зачиталась, так и стояла, не замечая сползающий на пол шарф, пока не поняла, что хочу нырнуть в эту реальность — Англия 1830-х, лингвистическая магия, тайное общество, драйв юности и стремление к справедливости. Унесла её домой.
Текст насыщен заметками о происхождении слов, о трансформации их значений и языковых связях, что дарит отдельное удовольствие. Серебряная пластина с правильно составленной парой слов из разных языков, нанесённых на оборотные стороны, оберегает экипаж от аварий, исцеляет болезни и многое другое.
Вавилон — Королевский институт переводов в Оксфорде, где герои книги, носители разных языков, учатся этой магии. Чужаки в этом мире, они встают на опасный путь революции, считая, что империя процветает, вытягивая серебро из своих колоний и скрывая от них знания о силе языков.
При всей драматичности, роман уютный и легко ведёт за собой. Не всё понятно и есть о чём поспорить.
Тоника:
Хотели бы вы встретиться с писателем из далекого прошлого? Чаю вместе попить, поговорить о пустяках с Толстым, Пушкиным или Буниным, например.
Анна переезжает в Сербию вслед за мужем (актуальная тема релокации). В хмуром Белграде она чувствует бесприютность, потерянность, и спасается воспоминаниями о теплой Ялте, в которой она работала над книгой о Чехове, посещала его места, погружалась в его личную переписку и мемуары современников. И как-то незаметно и необъяснимо все чеховское, герои его рассказов, сюжеты, да и сам Антон Павлович с женой Ольгой Книппер, сестрой и друзьями просачивается в реальную жизнь, перекликаются через столетие с сегодняшним опытом героини.
Хороший язык, многослойность и сложность сюжетных линий. Современный автор, обласканный премиями и критиками. Но, что-то здесь не так и вызывает у меня раздражение. Надеюсь, вместе мы разберемся.
Хотели бы вы встретиться с писателем из далекого прошлого? Чаю вместе попить, поговорить о пустяках с Толстым, Пушкиным или Буниным, например.
Анна переезжает в Сербию вслед за мужем (актуальная тема релокации). В хмуром Белграде она чувствует бесприютность, потерянность, и спасается воспоминаниями о теплой Ялте, в которой она работала над книгой о Чехове, посещала его места, погружалась в его личную переписку и мемуары современников. И как-то незаметно и необъяснимо все чеховское, герои его рассказов, сюжеты, да и сам Антон Павлович с женой Ольгой Книппер, сестрой и друзьями просачивается в реальную жизнь, перекликаются через столетие с сегодняшним опытом героини.
Хороший язык, многослойность и сложность сюжетных линий. Современный автор, обласканный премиями и критиками. Но, что-то здесь не так и вызывает у меня раздражение. Надеюсь, вместе мы разберемся.
[описание продолбано]
Тимур:
Захотелось разбавить наше погружение в метапрозу и депресняки: давненько у нас не было Истории с Интригой!
If We Were Villains разворачивается в театральном колледже, где маньячат по Шекспиру, ставят только Шекспира, постоянно цитируют Шекспира... ну вы поняли. Разумеется, в таком хогвартсе однажды должен сложиться классический flash royal: пир, кровь, любовь и тайна.
Итак, в американском колледже живут семеро друзей-старшекурсников, ни одного садовника, ни одного дворецкого, но кто-то всё же оказался убийцей, и мы долго не узнаем, выяснится ли, кто именно (к тому же наш протагонист уже отбыл тюремный срок: пересекаются два таймлайна).
Друзья — симпатичные персонажи со всей студенческой гормональной динамикой, у них несчастные любови, сценические неврозы, виски и водка, изматывающая подготовка к спектаклям, короче, весьма правдоподобная театральная атмосфера (это писательский дебют бывшей актрисы, у которой степень магистра шекспировских исследований Лондонского Королевского колледжа). Но без сюсюканья, «давить слезу» и избыточной сентиментальности.
Захотелось разбавить наше погружение в метапрозу и депресняки: давненько у нас не было Истории с Интригой!
If We Were Villains разворачивается в театральном колледже, где маньячат по Шекспиру, ставят только Шекспира, постоянно цитируют Шекспира... ну вы поняли. Разумеется, в таком хогвартсе однажды должен сложиться классический flash royal: пир, кровь, любовь и тайна.
Итак, в американском колледже живут семеро друзей-старшекурсников, ни одного садовника, ни одного дворецкого, но кто-то всё же оказался убийцей, и мы долго не узнаем, выяснится ли, кто именно (к тому же наш протагонист уже отбыл тюремный срок: пересекаются два таймлайна).
Друзья — симпатичные персонажи со всей студенческой гормональной динамикой, у них несчастные любови, сценические неврозы, виски и водка, изматывающая подготовка к спектаклям, короче, весьма правдоподобная театральная атмосфера (это писательский дебют бывшей актрисы, у которой степень магистра шекспировских исследований Лондонского Королевского колледжа). Но без сюсюканья, «давить слезу» и избыточной сентиментальности.
Тоника:
Это роман-путешествие по Алтаю, завораживающему красотой и простором, по краю древнему и неисхоженному, где конь знает тропу лучше всадника.
Одна туристка отбилась от своей группы (Ася), одна из сопровождающих (Катя) возвращается, чтобы ее найти и вернуть. Но, как вернуть человека, который сам решил «выскользнуть из всего этого». Бросить нельзя, приходится сопроводить. Так две женщины втягиваются в непредсказуемое и рискованное путешествие верхом на конях, чьи имена автор взяла не случайно. Суйла носит имя доброго духа, охраняющего шамана от несчастий во время пути в верхний и нижний миры. Караш носит имя посланника правителя царства мёртвых. Герои романа блуждают по пространству между реальным и мифическим, между живым и неживым, а где-то рядом бродит таинственный пернатый зверь — саспыга.
Текст предельно достоверен в описании походного быта и местного уклада жизни и органично вплетает в реальность хтонь и мистику через маленькие приметы, через необъяснимые поступки, через вопросы без ответа. Герои романа всё видят и замечают, но не могут об этом всерьез поговорить. Сквозь верхний слой повествования прорывается вкраплениями то ли сновидение, то ли воспоминание, — нечто бессвязное, физиологичное, пугающее.
Это роман-путешествие по Алтаю, завораживающему красотой и простором, по краю древнему и неисхоженному, где конь знает тропу лучше всадника.
Одна туристка отбилась от своей группы (Ася), одна из сопровождающих (Катя) возвращается, чтобы ее найти и вернуть. Но, как вернуть человека, который сам решил «выскользнуть из всего этого». Бросить нельзя, приходится сопроводить. Так две женщины втягиваются в непредсказуемое и рискованное путешествие верхом на конях, чьи имена автор взяла не случайно. Суйла носит имя доброго духа, охраняющего шамана от несчастий во время пути в верхний и нижний миры. Караш носит имя посланника правителя царства мёртвых. Герои романа блуждают по пространству между реальным и мифическим, между живым и неживым, а где-то рядом бродит таинственный пернатый зверь — саспыга.
Текст предельно достоверен в описании походного быта и местного уклада жизни и органично вплетает в реальность хтонь и мистику через маленькие приметы, через необъяснимые поступки, через вопросы без ответа. Герои романа всё видят и замечают, но не могут об этом всерьез поговорить. Сквозь верхний слой повествования прорывается вкраплениями то ли сновидение, то ли воспоминание, — нечто бессвязное, физиологичное, пугающее.
Тоника:
Когда мне было пять, я поставила папе мат. Он, во-первых, зазевался, а во-вторых за серьезного соперника в шахматах меня изначально не держал, потому расхохотался от удивления. Он, как многие в то время, выписывал шахматные журналы, решал шахматные задачи aи занимался благородным состязанием умов, творчеством, искусством, а не просто игрой.
Алексей Конаков попытался представить Россию в начале 2080-х и увидел, что в результате Переучреждения культуру заменили шахматы, страна бедна, заперта в международном карантине, но счастлива. Почему нет? Из сегодня кажется, что мир в будущем может стать любым.
Табия тридцать два — это остроумная, трогательная фантастика, пропитанная шахматными образами, именами и словами (не пугайтесь, там все понятно). А утопия это или антиутопия? Мы можем обсудить и решить вместе.
Когда мне было пять, я поставила папе мат. Он, во-первых, зазевался, а во-вторых за серьезного соперника в шахматах меня изначально не держал, потому расхохотался от удивления. Он, как многие в то время, выписывал шахматные журналы, решал шахматные задачи aи занимался благородным состязанием умов, творчеством, искусством, а не просто игрой.
Алексей Конаков попытался представить Россию в начале 2080-х и увидел, что в результате Переучреждения культуру заменили шахматы, страна бедна, заперта в международном карантине, но счастлива. Почему нет? Из сегодня кажется, что мир в будущем может стать любым.
Табия тридцать два — это остроумная, трогательная фантастика, пропитанная шахматными образами, именами и словами (не пугайтесь, там все понятно). А утопия это или антиутопия? Мы можем обсудить и решить вместе.
Анна:
«Тайная история» — первый роман Донны Тартт. Потом будут «Маленький друг» и нашумевший «Щегол», каждый с перерывом в 10 лет. Мне нравятся все три, но я знаю многих, кто от Тартт плюется (считайте, что предупредила).
В жанровом смысле «Тайная история» то ли интеллектуальный триллер, то ли филологический детектив, но, так или иначе, это увлекательное чтение. Книга стартует с поисков тела — в закрытом частном колледже убили студента, а разворачивается в сторону поисков истины. 590 страниц (считайте, что предупредила!) здесь будут не столько выяснять, кто убил, сколько зачем и что к этому привело.
«Тайная история» — это «Общество мертвых поэтов» наоборот. Отчасти роман воспитания, отчасти антитоталитарная метафора, отчасти криминальная драма, где убийца… пусть будет Аристотель.
«Тайная история» — первый роман Донны Тартт. Потом будут «Маленький друг» и нашумевший «Щегол», каждый с перерывом в 10 лет. Мне нравятся все три, но я знаю многих, кто от Тартт плюется (считайте, что предупредила).
В жанровом смысле «Тайная история» то ли интеллектуальный триллер, то ли филологический детектив, но, так или иначе, это увлекательное чтение. Книга стартует с поисков тела — в закрытом частном колледже убили студента, а разворачивается в сторону поисков истины. 590 страниц (считайте, что предупредила!) здесь будут не столько выяснять, кто убил, сколько зачем и что к этому привело.
«Тайная история» — это «Общество мертвых поэтов» наоборот. Отчасти роман воспитания, отчасти антитоталитарная метафора, отчасти криминальная драма, где убийца… пусть будет Аристотель.
Тимур:
«Кадавры» — история, которая разворачивается в слегка альтернативной России, пережившей мини-апокалипсис и изменившейся, в общем-то, незначительно. Ну, мортальные аномалии появились, что уж теперь, дело-то житейское.
У Поляринова нюх на важные и точные детали, поэтому и Россия тут очень русская (даже под китайским влиянием), и главные герои, брат и сестра, очень живые. И «фантастический» его 2027 год такой достоверный, что иногда чересчур.
Баланс: повествование идёт через ворох деталей и личных воспоминаний, «идейный подтекст» (темы смерти, вины и памяти, да, опять памяти ) не выпячивается, но и не прячется, как будто нависая над происходящим. Откуда берется скрытое напряжение, которым пропитана книга — это один из многих вопросов для обсуждения.
«Кадавры» — история, которая разворачивается в слегка альтернативной России, пережившей мини-апокалипсис и изменившейся, в общем-то, незначительно. Ну, мортальные аномалии появились, что уж теперь, дело-то житейское.
У Поляринова нюх на важные и точные детали, поэтому и Россия тут очень русская (даже под китайским влиянием), и главные герои, брат и сестра, очень живые. И «фантастический» его 2027 год такой достоверный, что иногда чересчур.
Баланс: повествование идёт через ворох деталей и личных воспоминаний, «идейный подтекст» (темы смерти, вины и памяти, да, опять памяти ) не выпячивается, но и не прячется, как будто нависая над происходящим. Откуда берется скрытое напряжение, которым пропитана книга — это один из многих вопросов для обсуждения.
Анна:
Эту книгу я на прошлой неделе привезла из Лиссабона с автографом Линор, и я боюсь ее читать одна. Линор из тех авторов, чьи тексты (и проза, и стихи) попадают мне в обход мозга напрямую даже не в сердце, а куда-то в кишки.
«Слон Бобо» — это еще и очень современная книга. Это книга про наше общее здесь и сейчас. Белый слон — подарок турецкого султана русскому царю. Он идет по России и видит все то же, что видим мы. Или не видим. Или не хотим видеть. Мне немножко страшно идти вслед за ним одной, пойдемте вместе.
Эту книгу я на прошлой неделе привезла из Лиссабона с автографом Линор, и я боюсь ее читать одна. Линор из тех авторов, чьи тексты (и проза, и стихи) попадают мне в обход мозга напрямую даже не в сердце, а куда-то в кишки.
«Слон Бобо» — это еще и очень современная книга. Это книга про наше общее здесь и сейчас. Белый слон — подарок турецкого султана русскому царю. Он идет по России и видит все то же, что видим мы. Или не видим. Или не хотим видеть. Мне немножко страшно идти вслед за ним одной, пойдемте вместе.
Тоника:
История о Франкенштейне так обросла мемами, экранизациями, комиксами и литературными отражениями, что сложно вспомнить оригинал.
Я предлагаю его прочесть и разобраться, какие обстоятельства и люди сподвигли 18-летнюю Мэри написать пугающую фантастическую драму, почему этот роман остается интересным спустя двести лет после написания, при чем тут Прометей, зачем ученый хотел оживить мертвое и кто на самом деле чудовище — создатель или создание.
Франкенштейн может стать тропинкой к увлекательной полке готической литературы, способом поговорить о творчестве и одержимости идеями, об этической стороне науки, а может просто скрасить хмурую зиму и пощекотать пяточки..
История о Франкенштейне так обросла мемами, экранизациями, комиксами и литературными отражениями, что сложно вспомнить оригинал.
Я предлагаю его прочесть и разобраться, какие обстоятельства и люди сподвигли 18-летнюю Мэри написать пугающую фантастическую драму, почему этот роман остается интересным спустя двести лет после написания, при чем тут Прометей, зачем ученый хотел оживить мертвое и кто на самом деле чудовище — создатель или создание.
Франкенштейн может стать тропинкой к увлекательной полке готической литературы, способом поговорить о творчестве и одержимости идеями, об этической стороне науки, а может просто скрасить хмурую зиму и пощекотать пяточки..
Тоника:
Болезни пугают. А что, если они выдуманные, невероятные и забавные?
Роман Викрама Паралкара в действительности не роман, а энциклопедия несуществующих заболеваний. Старый библиотекарь знакомит новичка с этой уникальной книгой. Каждый из пятидесяти недугов, поражающих душу или тело, имеет название на латыни и описан в коротком эссе, где смешаны абсурд, мистика, философия и пародия на научный трактат. Особенно меня увлекли болезни, связанные с речью, например:
«После того как город охватывает эпидемия Confusio linguarum, его площади и бордели, его церкви и скотобойни наводняют горожане, сетующие на языках, на которых прежде не говорил никто на свете. Жертвы недуга никогда уже не вспомнят родной язык и отныне изъясняются странными новыми слогами»
Почему бы нам не заглянуть в нее вместе, приговаривая: «Да… нет… возможно… это и про меня»? Или вдохновиться фантазией Паралкара и самим выдумать пару диагнозов? Или заметить в этих сюжетах отголоски литературы, истории и кино?
Болезни пугают. А что, если они выдуманные, невероятные и забавные?
Роман Викрама Паралкара в действительности не роман, а энциклопедия несуществующих заболеваний. Старый библиотекарь знакомит новичка с этой уникальной книгой. Каждый из пятидесяти недугов, поражающих душу или тело, имеет название на латыни и описан в коротком эссе, где смешаны абсурд, мистика, философия и пародия на научный трактат. Особенно меня увлекли болезни, связанные с речью, например:
«После того как город охватывает эпидемия Confusio linguarum, его площади и бордели, его церкви и скотобойни наводняют горожане, сетующие на языках, на которых прежде не говорил никто на свете. Жертвы недуга никогда уже не вспомнят родной язык и отныне изъясняются странными новыми слогами»
Почему бы нам не заглянуть в нее вместе, приговаривая: «Да… нет… возможно… это и про меня»? Или вдохновиться фантазией Паралкара и самим выдумать пару диагнозов? Или заметить в этих сюжетах отголоски литературы, истории и кино?
Тимур:
История дружбы Мариенгофа и Сергея Есенина: залихватские приключения в молодой Советской России, разлад, запоздалое воссоединение. Мне ни Есенин, ни его поэзия никогда не нравились, и теперь я окончательно понял почему: никаким талантом не перебьёшь столько притворства («Сестер же своих не хотел везти в город, чтобы, став «барышнями», они не обобычнили его фигуры»).
Для меня главный герой книги — мариенгофская оптика: он сочетает искренние чувства к любимому другу с жестким ехидством по его же адресу («Больше всего в жизни Есенин боялся сифилиса. Выскочит, бывало, на носу у него прыщик величиной с хлебную крошку, и уж ходит он от зеркала к зеркалу суров и мрачен»), не сглаживая , не романтизируя алкоголизм и нарциссизм.
Неожиданно интересно оказалось читать и про быт тех времен (бытовых подробностей тут много). Может, потому, что язык — пятизвёздочный, мастерский.
История дружбы Мариенгофа и Сергея Есенина: залихватские приключения в молодой Советской России, разлад, запоздалое воссоединение. Мне ни Есенин, ни его поэзия никогда не нравились, и теперь я окончательно понял почему: никаким талантом не перебьёшь столько притворства («Сестер же своих не хотел везти в город, чтобы, став «барышнями», они не обобычнили его фигуры»).
Для меня главный герой книги — мариенгофская оптика: он сочетает искренние чувства к любимому другу с жестким ехидством по его же адресу («Больше всего в жизни Есенин боялся сифилиса. Выскочит, бывало, на носу у него прыщик величиной с хлебную крошку, и уж ходит он от зеркала к зеркалу суров и мрачен»), не сглаживая , не романтизируя алкоголизм и нарциссизм.
Неожиданно интересно оказалось читать и про быт тех времен (бытовых подробностей тут много). Может, потому, что язык — пятизвёздочный, мастерский.
Тоника:
Это роман, написанный Сандрой Ньюман по доверительному поручению наследников Джорджа Оруэлла. Его сын, Ричард Блэр, предложил писательнице переосмыслить текст «1984» и рассказать версию событий от лица подруги главного героя.
Джулия — человек действия, она изобретательно выживает, обходя запреты и уклоняясь от вездесущего контроля Большого брата и шпионов Партии. И она любит: “Да, она его любила — по той причине, что это запрещалось. Любила, чтобы перебороть страх”.
Повествование идет параллельно событиям оригинальной антиутопии, но мы видим этот мир объемнее. В интервью Ньюман говорит, что позволила себе погрузиться в “кроличьи норы”, рассказав о вещах, которые Оруэлл в своем романе указывает мельком.
Жизнь Джулии оказывается захватывающей, опасной и дает событиям романа «1984» неожиданное объяснение.
Это роман, написанный Сандрой Ньюман по доверительному поручению наследников Джорджа Оруэлла. Его сын, Ричард Блэр, предложил писательнице переосмыслить текст «1984» и рассказать версию событий от лица подруги главного героя.
Джулия — человек действия, она изобретательно выживает, обходя запреты и уклоняясь от вездесущего контроля Большого брата и шпионов Партии. И она любит: “Да, она его любила — по той причине, что это запрещалось. Любила, чтобы перебороть страх”.
Повествование идет параллельно событиям оригинальной антиутопии, но мы видим этот мир объемнее. В интервью Ньюман говорит, что позволила себе погрузиться в “кроличьи норы”, рассказав о вещах, которые Оруэлл в своем романе указывает мельком.
Жизнь Джулии оказывается захватывающей, опасной и дает событиям романа «1984» неожиданное объяснение.
Тоника:
Кобо Абэ награжден семью литературными премиями, в том числе за роман “Женщина в песках”, в 1992 году он стал одним из кандидатов на Нобелевскую премию по литературе, но не дожил до вручения награды. В юности он был страстно увлечен Хайдеггером, Ясперсом, философией экзистенциализма и в своем творчестве считал главной задачей максимально серьёзно проявить человеческую душу. Сам писатель и критики считали, что у него много общего с Кафкой.
«Женщина в песках» — культовое произведение, завораживающее, немного пугающее, оно просачивается в мозг как песок в ботинки.
Учитель, энтомолог-любитель приезжает в отдаленную деревню на морском побережье в надежде найти новый вид особой мушки и стать ее первооткрывателем, но попадает в ловушку, в реальность, состоящую из песка. “Песок не отдыхает и не дает отдыха”, - жители деревни борются с ним как с живой неутомимой стихией, захватывающей пространство их жизни, проникающей везде и всегда. Беспрерывное движение песка “… похоже на жизнь людей, изо дня в день цепляющихся друг за друга”.
Этот роман-притча, роман-клубок метафор и аллегорий, в который вложены философские размышления о смысле жизни, одиночестве вдвоем, о человеческой свободе, о смирении и противостоянии, о западном и восточном отношении к месту человека в мире, о неизбежности судьбы и возможности изменить действительность.
В какой момент мы останавливаемся и решаем, что дальше бороться нет смысла? Почему смысл теряется? Смирение - это проявление слабости или мудрости? Что важнее - свобода или спокойствие?
Кобо Абэ награжден семью литературными премиями, в том числе за роман “Женщина в песках”, в 1992 году он стал одним из кандидатов на Нобелевскую премию по литературе, но не дожил до вручения награды. В юности он был страстно увлечен Хайдеггером, Ясперсом, философией экзистенциализма и в своем творчестве считал главной задачей максимально серьёзно проявить человеческую душу. Сам писатель и критики считали, что у него много общего с Кафкой.
«Женщина в песках» — культовое произведение, завораживающее, немного пугающее, оно просачивается в мозг как песок в ботинки.
Учитель, энтомолог-любитель приезжает в отдаленную деревню на морском побережье в надежде найти новый вид особой мушки и стать ее первооткрывателем, но попадает в ловушку, в реальность, состоящую из песка. “Песок не отдыхает и не дает отдыха”, - жители деревни борются с ним как с живой неутомимой стихией, захватывающей пространство их жизни, проникающей везде и всегда. Беспрерывное движение песка “… похоже на жизнь людей, изо дня в день цепляющихся друг за друга”.
Этот роман-притча, роман-клубок метафор и аллегорий, в который вложены философские размышления о смысле жизни, одиночестве вдвоем, о человеческой свободе, о смирении и противостоянии, о западном и восточном отношении к месту человека в мире, о неизбежности судьбы и возможности изменить действительность.
В какой момент мы останавливаемся и решаем, что дальше бороться нет смысла? Почему смысл теряется? Смирение - это проявление слабости или мудрости? Что важнее - свобода или спокойствие?
Тимур:
В масонскую ложу истинных библиофилов меня не примут: бумажных книг почти не покупаю. Но феномен книги мне все равно интересен!
Смит рассказывает о том, как менялись отношения людей с книгами: за 500 лет тут было много приключений — вокруг религии, цензуры, коллекционирования и разных модных ебанатств вроде массовых сжиганий книг, переплетений их в человеческую кожу и т. д. Вышел калейдоскоп историй и фактов, которые изложены весьма живо
Главное: с этой мобильной магией мы можем сдвинуться от обсуждения самого издания к рассказам о том, как вы читаете, что за книги любили в детстве, какие книги на вас когда-то повлияли... и всё такое. Вариант углубленного книжноклубного знакомства, должно получиться занятно.
В масонскую ложу истинных библиофилов меня не примут: бумажных книг почти не покупаю. Но феномен книги мне все равно интересен!
Смит рассказывает о том, как менялись отношения людей с книгами: за 500 лет тут было много приключений — вокруг религии, цензуры, коллекционирования и разных модных ебанатств вроде массовых сжиганий книг, переплетений их в человеческую кожу и т. д. Вышел калейдоскоп историй и фактов, которые изложены весьма живо
Главное: с этой мобильной магией мы можем сдвинуться от обсуждения самого издания к рассказам о том, как вы читаете, что за книги любили в детстве, какие книги на вас когда-то повлияли... и всё такое. Вариант углубленного книжноклубного знакомства, должно получиться занятно.
Это описание с возрастом поблёкло и стало неразборчивым.